В начале нулевых, как сейчас называют первые годы третьего тысячелетия, в редакцию газеты "Вечерний Тбилиси" пришел звукооператор Гарри КУНЦЕВ. Он принес статью, в которой рассказывал о совместной работе с Сергеем Иосифовичем на тбилисской киностудии "Грузия-фильм". Статья была опубликована, а он с тех пор не раз еще заходил в редакцию, где я тогда работала. Его рассказы о Параджанове завораживали.
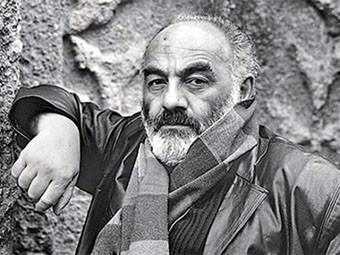
…ОКОНЧАТЕЛЬНО ФИЛЬМ РОЖДАЕТСЯ НА ПУЛЬТЕ ПЕРЕЗАПИСИ, ГДЕ В КАДРЫ ВЛИВАЕТСЯ ЗВУКОВАЯ КРОВЬ: музыка, шумы, речь. Обычно за пультом рядышком сидят "акушеры" - режиссер, композитор, звукооператор. Режиссер дает команды – где усилить музыку, где - тишину, а где все перекрыть речью. При этом композитор высказывает свое, стараясь, чтобы музыки было побольше, звукооператор старается еще и свои идеи протолкнуть. Процесс, одним словом, нервный, кропотливый - на износ. У Параджанова же все было не так. Первое, что он делал, войдя в зал переписи, заклеивал все приборы, по которым я следил за уровнями громкости. А когда я пытался напомнить ему о "правилах технического приличия", неизменно отвечал: "Как раз за нарушение каких-то дурацких норм мы и получим с тобой "Оскара". После такого заявления с грохотом садился впереди пульта, поднимая обе руки вверх, совсем как дирижер, и добавлял: "Ты только ни о чем не думай, ни в чем не сомневайся, будь уверен в одном – мы с тобой гении, и сейчас это докажем! Только следи за моими руками и делай то, что они тебе скажут!" Он не любил повторов, репетиций. Все рождалось стихийно, без глубокомысленных потуг - от сердца. Он тут же кричал, смеялся, плакал от радости за необычную нотку, падал на колени, целовал руки. Тут же что-то дарил "на вечную память за гениальную работу", за просто так… Боже, как он любил что-то дарить! И как он умел это делать!
…Съемки "Легенды о Сурамской крепости" начались с курьеза. Параджанов не требовал никаких синхронных записей на съемочной площадке, ему не нужна была "черновая" фонограмма, помогающая режиссерам при монтаже. У этого режиссера существовало свое кино, в котором общепринятые методы и законы полностью игнорировались. Какие-то "системы Станиславского", "репетиции с актерами", "поиски характерного грима", "предварительные раскадровки" были не для него. То, что сейчас называют "мир Параджанова", - это мир Параджанова, и никаким заранее продуманным и придуманным раскадровкам он не подчинялся. Не знаю, может, по ночам и снились режиссеру те краски мизансцены, которые утром он оживлял на площадке, но я не помню, чтобы он на съемке держал в руках сценарий или прогонял с актером будущую сцену. Все, что мы потом видели на экране, возникало в его сознании вот тут, на этом месте. Что-то вспыхивало в нем только тогда, когда хотел он этого сам, смешно было слышать стенания начальства, требующего от него аккуратного выполнения "календарного плана", "экономической сметы", "технологической последовательности съемочного процесса". Сказки и фантазии, легенды и видения, рождающиеся в таких душах, какая была дарена Сергею небесами, не имели ни графика, ни сметы, ни скучной логики. "И что за жизнь, если нет принципа и каприза" - вопрошал он в одном из писем. Это и было его кредо. В нем клокотало поразительное умение внушать, он умел заставить поверить, что ты тоже гений, что дело, которое делаешь, самое нужное на свете.
СЕРГЕЙ СМОНТИРОВАЛ "ЛЕГЕНДЫ О СУРАМСКОЙ КРЕПОСТИ" ЗА ПОЛТОРЫ СМЕНЫ, затем позвал в монтажную меня и крикнул с порога, убегая по своим более важным делам: "Я сделал свой шедевр, теперь можете его портить!" "Да, но… Сергей! Подождите! Когда портят такое, режиссер должен быть рядом! И еще… у нас даже титровой музыки нет!" "Придумай! Вы же гении здесь все!" Пришлось придумывать.
Я впервые столкнулся с материалом, в котором почти все кадры были внешне статичны. Каждый кадр в отдельности представлял собой совершенный коллаж, который можно было обрамлять в соответствующую рамку и отправлять на выставку любого ранга. Но эту "коллекцию коллажей" необходимо было "взорвать" звуковым рядом изнутри. Не просто ради эффекта или добавления каких-то эмоций. Как раз наоборот, цветовых эмоций на единицу кадра было столько, что все это требовалось "разбавить" особой звуковой драматургией, которая отразила бы принципы параджановского метода, заключающегося не в показе – действии, а в устремлении к длительным стояниям – размышлениям, проникающим в глубины зрительского сознания и подсознания. Необходимость связать в гармоничное целое видимую статику и звуковое движение было нелегкой задачей. Но еще важнее было сплести в единый узор Восток (костюмы, пластику героев, "певучесть" цветов) и грузинскую ткань легенды, ведь действие происходит в реальном месте. Режиссер посмел изменить даже сам облик Зураба - главного действующего лица легенды. У Параджанова он не маленький мальчик, как это в литературном первоисточнике монаха Чонкадзе, а взрослый юноша, который сам решает замуровать себя в стене крепости. Жертвовать собой или нет, даже во имя самых высоких целей, должен решать сам человек, хозяин своей жизни и своей судьбы. И тут неважно, во что он одет – в грузинскую чоху или старовосточное платье.
В народной песне мать Зураба не находит в себе сил смотреть, как замуровывают сына. Издалека, она только и смогла в ритме прощального речитатива несколько раз со стоном, прокричать один и тот же вопрос: "Зура, сынок! Сколько уже раствора?" В первом куплете сынишка отвечает ей: "По колено, мама…" Во втором: "По грудь, мама…" В третьем: "У горла уже раствор, у горла…" А потом вопрос ее остается без ответа, и мать понимает, что ниша замурована полностью. Такая вот песня, порожденная легендой. Я вспомнил о ней, когда наступило время придумать ту самую нить, которая примирила бы восточный аромат фильма с его грузинской сутью, и место для нее определилось сразу: она должна была зазвучать в первых же кадрах, на тех, где мы видим разваливающиеся стены крепости, снятые, кстати, просто, но эффектно. Параджанов поставил напротив друг друга несколько зеркал, в которых отражалась в разных перспективах небольшая старая крепость, затем бросил в зеркала камни, зеркала треснули, а нам, кажется, будто треснули стены крепости. Три-четыре дубля и достигнута полная иллюзия, что крепость разрушается раз за разом. Эти кадры и должны были родить песню, которая в свою очередь становилась камертоном всему фильму. Дело осложнялось тем, что я слышал эту песню в исполнении самодеятельного хора, ни нотной записи, ни магнитной я не встречал. На мое счастье в Восточной Грузии живет талантливая исполнительница народных песен Лейла Татараидзе, мы попросили ее прийти на студию, попробовать записать песню, которая не существовала.
ПАРАДЖАНОВУ СКАЗАЛИ, ЧТО НАЗНАЧЕНА ОФИЦИАЛЬНАЯ СМЕНА ЗАПИСИ МУЗЫКИ. Со страдальческим лицом он ворвался в ателье записи, швырнул кепку и кашне на стул. "Ну, что вы тут надумали? И именно сегодня, когда я еле дышу…" Даю команду киномеханику, на экране появляются начальные кадры фильма. Параджанов сразу размягчается, с удовольствием смотрит на трескающиеся зеркала. "Гениально придумано, а? И что вы хотите с этим сделать?" "Хотим попробовать песню". "При чем тут песня? Крепость разваливается к чертям, а мы концерт накладываем! Почему меня никто не спрашивает – хочу я этот концерт или не хочу?!"
Кадры, которые надо озвучить, склеены в кольцо. Дойдя до конца, эпизод начинается снова. "Какая прелесть! – любуется своей выдумкой режиссер. Всего три зеркала, а какой эффект, а? В Америке только за это я стал бы миллионером! Кстати, где дирекция?! Пусть смотрят, пусть смотрят! Они мне пока так и не заплатили, сволочи! Это же зеркала моей бабушки! Ей привезли из Венеции, но разве дирекция что-нибудь понимает в венецианском стекле?! О боже, с кем я имею дело". Он резко поворачивается ко мне: "Смена, это сколько часов?" "Смотря для кого…" - бурчу я. Кольцо пошло уже на десятый круг. "Ну вот! Никто меня не любит! Все хамят, - вздыхает Параджанов и нарочито покорным голосом спрашивает: - Что за песня у нас?" "Песни пока не существует", - признался я и заметил, как сжалась в своем углу певица, не привыкшая к его творческим выходкам. "Интересно", - заулыбался Сергей, и это уже не было игрой. Ему действительно было интересно то, чего до него не существовало! "А это, кто?" - заметил он, наконец, гостью. "Женщина, но не контральто", - представил я Лейлу, а Сергей, заметив в ее руках чонгури, совсем ожил. Чонгури оказался из прошлого века и уже этим вызвал в Параджанове большое уважение. На освещенном пюпитре лежал текст песни, и я попросил Лейлу напеть этот текст в ритм кадрам, в ритм тому, что происходило на экране, напеть не просто песню, а стон. Чонгури должен подыграть негромко, печально. Никаких нот не существует, Лейле дается полная свобода: она должна придумать мелодию сама здесь же, увидев наш эпизод "свежим глазом". Лейла задачу поняла, медленно провела пальцем по струнам чонгури: "Я попробую что-нибудь подобрать, но мне надо порепетировать." "Конечно", - воскликнул Параджанов, ему явно понравилось, что у нее и вправду был не классический голос. - Сколько надо, хоть всю смену".
Чтобы не смущать женщину, он сел рядом со мной у пульта и шепнул прямо в ухо: "Сразу включай запись!". Я так и сделал. Как только на экране пробежал начальный кадр, чонгури затянул свой печальный пролог. Эти звуки чонгури и голос певицы, еще не распетый, дрожащий от волнения, не "подглаженное" дыхание Лейлы, слишком близко стоящей у микрофона, удивительно точно подошли к "настроению" эпизода. В наушниках я слышал посторонние шорохи: от ее одежды, от ее переступания с ноги на ногу, не совсем чистый отзвук струн и "растяжку" ритма в моменты, когда Лейла поднимала голову от текста, чтобы проследить за сменой кадра. В принципе это считается браком, но для кадров Параджанова оказался той самой фактурой, что была необходима для оживания статики. Параджанов замер, магнитная лента в аппаратной шла на запись, а я молил Бога, чтобы Лейла не остановилась, поверив, будто это и вправду всего лишь репетиция, или, чтобы кто-нибудь случайно не вошел в ателье, испортив все. Лейла допела до конца, прокашлялась. Я посмотрел на Параджанова. Он тихо плакал. Лейла, удивленная тишиной, оглянулась, хотела что-то спросить, но не успела. Параджанов подскочил к ней, упал на колени и стал целовать ее руку, продолжая рыдать. Женщина, не привыкшая к подобным проявлениям чувств, оторопела, а Сергей не скрывал восторга: "Все! Все прекрасно! Это, это…", - он чуть не задохнулся от собственных слез. Громко всхлипнул, вскочил: "Все! Смена закончена! Я в восторге. Дирекция, заплатите этой гениальной женщине в пятикратном размере! Нет, в десятикратном. Вы не понимаете, что она сделала сейчас для моего шедевра!" Схватив шарф и кепку, побежал к выходу, бросив мне на ходу: "Никаких дублей!"
Нора КАНАНОВА, "Голос Армении"